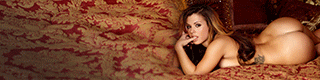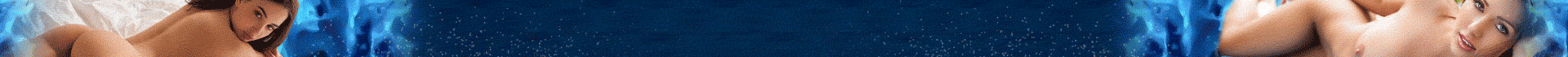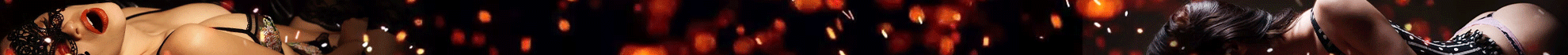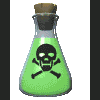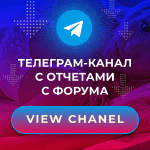Подниму тему в новом аспекте: наследство, но не обязательно - бизнес.
У британского ветеринара и писателя Джеймса Хэрриета прочитал такой эпизод. У молодого трудолюбивого, но бедного фермера возникла проблема - коровник 17-го века слишком узкий по современным стандартам, и там не размещается система навозоудаления. А без этого молоко нельзя сертифицировать по качеству, чтобы за него платили на 2 пенса больше.
То есть не у помещика, а у простого фермера есть полученный по наследству коровник 17-го века. Дом тоже получен по наследству, и наверняка построен примерно тогда же.
А теперь внимание, вопрос: Много ли вы получили по наследству?
(имеется в виду - капитального имущества)
Сознаюсь - квартиру, в которой сейчас живу, получил по наследству от родителей. Но назвать ее "фамильным гнездом" нельзя, потому что это не та квартира, где я жил в детстве. Было несколько разменов и переездов.
Есть "ждановский" шкаф и еще несколько предметов мебели, которые я помню с детства. Но они куплены в первые послевоенные годы, т.е. не старинные. А в большинстве - что меня окружает, мной самим и куплено.
Кмк, и большинство русских людей живет так же. Каждое поколение начинает с нуля. Неудивительно, что большинство не помнит даже прадедов.
Конечно есть исключения. Например, дедушка-чекист получил барскую квартиру в Москве от Сталина, а теперь в ней живет внук - неполживый либераст

Но много ли таких исключений?
По этому поводу приведу цитату, говорящую примерно о том же:
Цитата
Продолжаю читать научный сборник «Русское крестьянство и Первая мировая война», 2016. И в нём есть меткое замечание на эту тему:
«Одна из особенностей русского хозяйства, и это прекрасно показали Л.В.Милов и представители его школы, заключается в том, что оно создаёт незначительный по объёму общественный продукт, а следовательно и прибавочный продукт – много меньше, чем, например, в Западной Европе. На Руси всегда было меньше вещественной субстанции, чем на Западе, всегда меньше накопленного, овеществленного труда, который при самовозрастании и в обмене на рабочую силу превращается в капитал. По части обладания потенциалом накопленного труда, то есть спрессованного времени, Россия всегда находилась в другой «лиге» по сравнению с Западной Европой.
На это как на факт, поражающий русский глаз и русским ум, указывали наши мыслители. Так, пораженный «буйством вещности» Л.Н.Тихомиров, бывший народоволец, а затем искренний монархист, писал:
«Перед нами открылось свободное пространство у подножия Салев, и мы узнали, что здесь проходит уже граница Франции. Это огромное количество труда меня поразило. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, обгорожена камнем. Я сначала не понимал загадки, которую мне всё это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это собственность, это капитал, миллиарды миллиардов, в сравнении с которыми ничтожество наличный труд поколения.
Что такое у нас, в России, прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет, никто не живёт в доме деда, потому что он при самом деде два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истрепалось давно, и корова издохла. А здесь это прошлое охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное... И невольно назревала мысль: какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе».
Тихомиров совершенно верно уловил, что капитализм - это лишь верхушка, надстройка над той массой вещества, которая создана задолго до него в средневековье. Прав он и в том, что в России масса, унаследованная от хронологически той же эпохи, несравнимо меньше.
Не случайно русское развитие шло не вглубь, а вширь. При таком развитии собственность не может быть прочной, равно как и основанная на ней система. Поэтому контроль над людьми и пространством здесь всегда важнее контроля над «вещами» и временем. В связи с чем капитал, который по сути есть овеществлённый труд, никогда не будет играть в «руссосфере» системообразующую роль, как и классы».
 Портвейн333 (04 May 2021 - 15:37) писал:
Портвейн333 (04 May 2021 - 15:37) писал: vivatspb (04 May 2021 - 16:09) писал:
vivatspb (04 May 2021 - 16:09) писал: